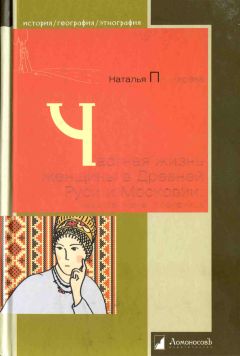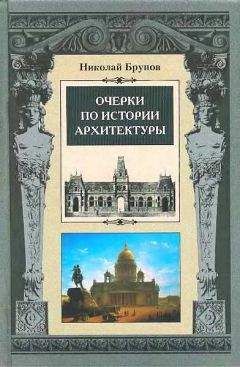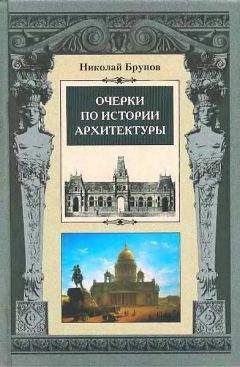Чтобы вникнуть в христианство поселянина, которому предстоит исповедоваться по 18 пунктам, рассмотрим сначала «грехи», относящиеся к тому, что и в праздничные дни он не давал себе покоя. Быть может, ходил в лес «по траву и по корения», что вписывается в графу «народные верования». Но возможно и другое: собирал дары леса. Что он ответил исповеднику, когда тот спросил, не занимался ли он рыболовством — «не кладывал ли в реки верши на рыбу» — в великую субботу? Мог ответить отрицательно. Мог и утвердительно, что лишь соответствовало Евангелию: «суббота человека ради бысть, а не человек субботы ради» (Марк, 2, 27). Он не ответил так. Вряд ли был он искушен в Священном Писании. А когда бы ответил ссылкой на Евангелие, то ходил бы в еретиках. Но его поступки, именно те, что духовнику представлялись греховными, ничего иного не означали, как: «суббота человека ради бысть». И потому в великую субботу, как и в любой другой праздник, он не только считал себя вправе трудиться, но ничего не видел предосудительного в том, чтобы и «баню топити». Поселянин знал христианский праздничный календарь, что подтверждается содержанием задаваемых ему исповедных вопросов. Но «суббота человека ради бысть» — это «сокрытый двигатель» его христианства.
Поэтому правомерно было сосуществование с календарем христианских праздников, внедряемых церковью (не без отклика на них «поселянина»), календаря производственного земледельческого (скотоводческого) и семейно–бытового. Наличие исследований производственного сельскохозяйственного календаря, богатых конкретными материалами и научными идеями[117], позволяет нам ограничиться беглой справкой: мар- товско–апрельские даты русского производственно–обрядового календаря фиксировали внимание крестьянина на подготовку к полевым работам. Их сроки были обусловлены многовековым опытом наблюдений за переменами в природе: прилетом грачей, жаворонков, началом снеготаяния и ледохода, установлением дорожного пути. Первый день выгона скота — Егорьев день — приходился на 23 апреля. Информативны сами по себе названия дней, связанных с посевными (включая огородные) работами в мае — середине июня: Ирина Рассадница, Никола с кормом (выпас скота), Константин и Елена Сеяльники, Федосья Колосница, Акулина Гречишница. С середины июня по середину августа фиксировались календарные даты разного характера — Ильин день, отмечавшийся 20 июля, предупреждал о сезоне гроз. Но в этой череде календарных дат самым знаменательным был день Флора и Лавра. Он отмечался 18 августа и указывал на предельный срок посева ржи.
Зимняя обрядность регулировала распределение продовольственных запасов — таковы день Петра Полукорма — 16 января и день Аксиньи Полухлебницы — 24 января. Календарные дни в октябре — декабре обозначали одни — установление санного пути, другие предвещали наступление морозов. 12 декабря — день Спиридона Поворота — знаменовал перелом с зимы на весну. Самым древним, ярким и массовым праздником был день летнего солнцеворота — 24 июня. В расшифрованном Б. А. Рыбаковым сосуде–календаре IV в. н. э. (из Лепесовки на Волыни) июнь выделен двумя крестообразными знаками: «этот двойной крест обозначал летнее солнцестояние, июньский апогей солнца, отмечаемый особенно интенсивными купальскими кострами»[118]. Церковь боролась с этим праздником и сопровождавшим его ритуалом, проиграла в борьбе, приноровила его ко дню Иоанна Крестителя и продолжала обличать все, что было сопряжено в нем с народными верованиями. Праздник народного ликования, когда солнце достигало апогея, а земля созревала к жатве, пытались запретить Иван IV и церковные иерархи в 1551 г.: «По царской заповеди всем святителем, коемуждо по своем пределе, по тем градом и по селом, разослати к попам свои грамоты с поучением и с великим запрещением, чтобы однолично о Иванове дни и в навечерии Рожества Христова и Богоявлениа (наш «поселянин» иначе отмечал день Богоявления! — А К.) мужи и жены и девицы на нощное плещевание и на безчинный говор, и на бесовские песни, и на плясание, и скакание, и на многие богомерзкие дела не сходились бы и таковых древних бесований еллинских не творили, и в конец бы престали… те все еллинские прелести отречены бысть и прокляты и православным християном не подобает тако творити»[119]. Это было бессильное запрещение, возможно, что церковь в данном случае больше стремилась «сохранить лицо», чем надеялась на эффективность своих попыток.
Народный сельскохозяйственный календарь со временем обрастал христианскими идеологическими надстройками. Он сводил в единую систему циклы производственного процесса и мобилизовал волю, усилия, трудовые навыки производителей на достижение жизненно–насущных целей в оптимальные сроки. Он заслуживает почтения, этот уходящий в глубокую древность календарь, прошедший через многие и многие поколения как эстафета трудового опыта и вместе с ним как эстафета духовной культуры.
Феодальная Россия, несмотря на устойчивость народных верований, была христианской страной с христианским населением, по–феодальному христианским. Христианство апеллировало к человеку как вместилищу «духа и истины». Оно противостояло «роевому» образу бытия и сознания, не противопоставляя людей друг другу, напротив, взывая к их осознанному (в пределах христианского учения) сплочению. Человек народных верований еще очень далек не только от того, чтобы стать человеком «для себя», но хотя бы человеком «в себе». Он всецело публичен — «весь для всех», ему ведомы горести и радости, но это горести и радости всего коллектива, неотъемлемым элементом которого он себя мыслит (семья, род, община, племя). Духовный мир индивида реализуется в сопереживаниях, сочувствиях, сорадованиях, содействах коллектива, в который он инкорпорирован (включен). Это экстравертированный (внешний) духовный мир — общественное достояние. Между тем христианство взывало к внутреннему (интравертированному) человеку. В этом суть Нагорной проповеди Христа. И такова же суть искушений Иисуса в пустыне: испытания на силу духа, не уступающего перед смертью и верного себе перед всеми соблазнами «мира сего».
В этом аспекте Покаянные книги составляют знаменательное явление в истории духовной культуры и служат индикатором духовного развития всех слоев общества, включая специально рассматриваемых здесь «поселян». Ибо Покаянные книги предполагали человека, способного разбирать между «добром» и «злом», обладавшего свободной волей, «вменяемого» и потому индивидуально–ответственного за свои поступки. Это еще не способность человека положительно осуществлять свою индивидуальность, но уже способность отрицательно ее выражать (способность выбирать между «добром» и «злом». Однако что добродетельно и что греховно, устанавливала церковь)[120]. Практика исповеди в свою очередь оказывала воздействие на формирование индивидуальности человека. Обращение к человеку как сознательному субъекту действий, поступков, поведения составляло предпосылку исповеди. Это отразили Покаянные книги. Но не только они.
Одновременно с Покаянными книгами развивается жанр житийной литературы. О XV‑XVI вв. выдающийся исследователь русской агиографии Аре. Кадлубовский писал: «В данную эпоху житие является едва ли не наиболее популярным и распространенным литературным родом»[121]. Кадлубовский поставил проблему житийной литературы как явления духовной культуры и общественной мысли и показал, что житие «не только отражало известный образ мыслей, известное настроение, но становилось и само органом их распространения»[122]. Если из массы житийных повестей извлечь то самое общее, но и самое непременное, без чего жития не были бы житиями, то обнаружится их внутреннее родство с Покаянными книгами. Жития обращены к внутреннему человеку. Каждый средневековый читатель и слушатель житий заранее знал, что их герои восторжествуют — на то и святые. Но путь к святости, как и весь земной отрезок жизни святого, представлялся борьбой, ареной которой выступал духовный мир. Торжество святого изображалось как торжество духа над искушениями, соблазнами, опасностями, превратностями жизни. Фантазия сочинителей житий была изобретательна и изощрена, когда описывала препятствия, преграждавшие святому путь к святости, а потом и соблюдение ее.
В Покаянных книгах нам встретилась детальная разработка шкалы грехов, которая подсказана была повседневным житейским опытом. Святым житийных повестей угрожают, как правило, более крупные грехи — «смертные грехи», грехи против Бога (неверие, уныние, отчаяние), или сугубо личные грехи («работа чреву», половая распущенность). Реже среди грехов святого встречаются преступления, такие, как воровство или убийство. Всякий раз побудителями грехов выступают дьявол и бесы, прямые его слуги. Борение с грехами непросто дается святому — оно требует сосредоточения всех его духовных сил, чтобы выправиться после нравственных падений — их не обходят сочинители житий — и восстать к праведной жизни. Перед читателями и слушателями житий проходили картины переменчивых событий в духовном мире святых, именно картины, так как жития написаны, как правило, живо, наглядно, красочно. Духовная культура средневековья — в немалой степени культура «пяти чувств», и на такого рода языке общались сочинители житий со своей аудиторией. При этом сочинители не подделывались под народную культуру. Они сами писали, как думали и чувствовали.